



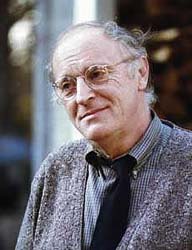
В нашем музее открылась фотовыставка "Простые лица" о норенском периоде жизни Иосифа Бродского. На выставке представлены отдельные предметы быта, фотографии 60-х годов: Иосифа Бродского, его ленинградских друзей, коношан и жителей деревни Норенская, которым пришлось по различным причинам общаться с И.А. Бродским. 12 фотографий, представленных на выставке, сделаны самим Иосифом Бродским во время его работы разъездным фотографом в Коношском комбинате бытового обслуживания. Выставку дополняют воспоминания коношан о поэте.
Поэт,
переводчик, критик, эссеист, драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе
1987 года
Иосиф
Александрович Бродский
в 1964 - 1965 годах находился на территории Коношского района.
Решение суда – высылка на 5 лет с обязательным привлечением к физическому труду.
Ссылку он отбывал в деревне Норенской. Свободного времени здесь было достаточно,
и оно целиком заполняется творчеством. Здесь он создал наиболее значительные
произведения доэмигрантского периода.

...Здесь, в северной
деревне, где дышу
тобой, где увеличивает плечи
мне тень, я возбуждение гашу,
но прежде парафиновые свечи,
чтоб тенью не был сон обременен,
гашу, предоставляя им в горячке
белеть во тьме, как новый Парфенон
в периоды бессоницы и спячки... (из "Северная почта")
В 1965 году, под давлением мировой общественности, решением Верховного суда РСФСР срок высылки сокращен до фактически отбытого (1 год, 5 месяцев). В этом же году в Нью-Йорке выходит первая книга Иосифа Бродского на русском языке «Стихотворения и поэмы». В период ссылки им написаны такие известные стихотворения, как «Одной поэтессе», «Два часа в резервуаре», «Новые стансы к Августе», «Северная почта», «Письмо в бутылке», «Брожу в редеющем лесу…», «Тебе, когда мой голос отзвучит...», «Орфей и Артемида», «Гвоздика», «Пророчество», «24.5.65 КПЗ», «В канаве гусь, как стереотруба...», «В деревне бог живет не по углам...», «Чаша со змейкой», «В деревне, затерявшейся в лесах...», «Северный край, укрой…», «Дни бегут надо мной…», «С грустью и с нежностью» и другие.
Осень в Норенской
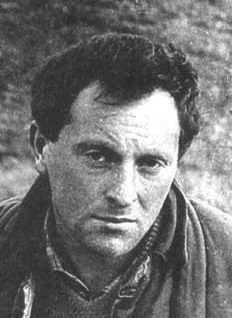 Мы
возвращаемся с поля. Ветер
Мы
возвращаемся с поля. Ветер
гремит перевёрнутыми колоколами вёдер,
коверкает голые прутья ветел,
бросает землю на валуны.
Лошади бьются среди оглобель
черными корзинами вздутых рёбер,
обращают оскаленный профиль
к ржавому зубью бороны.
Ветер сучит замерзший щавель,
пучит платки и косынки, шарит
в льняных подолах старух, превращает
их в тряпичные кочаны.
Харкая, кашляя, глядя долу,
словно ножницами по подолу,
бабы стригут сапогами к дому,
рвутся на свои топчаны.
 В
складках мелькают резинки ножниц.
В
складках мелькают резинки ножниц.
Зрачки слезятся виденьем рожиц,
гонимых ветром в глаза колхозниц,
как ливень гонит подобья лиц
в голые стёкла. Под боронами
борозды разбегаются пред валунами.
Ветер расшвыривает над волнами
рыхлого поля кулигу птиц.
Эти виденья - последний признак
внутренней жизни, которой близок
всякий возникший снаружи призрак,
если его не спугнет вконец
благовест ступицы, лязг тележный,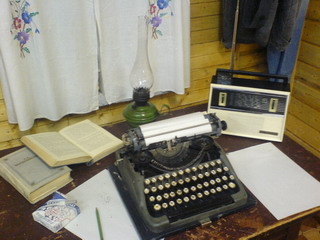
вниз головой в колее колесной
перевернувшийся мир телесный,
реющий в тучах живой скворец.
 Небо
темней; не глаза, но грабли
Небо
темней; не глаза, но грабли
первыми видят сырые кровли,
вырисовывающиеся на гребне
холма - вернее, бугра вдали.
Три версты еще будет с лишним.
Дождь панует в просторе нищем,
и липнут к кирзовым голенищам
бурые комья родной земли.

